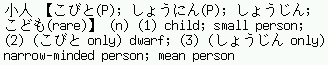Уэс Чепмен
Оригинал доступен по ссылке sun.iwu.edu
«Отношение мужчин к феминизму возмутительно, — пишет Стивен Хит» (70). Частично это означает, что мужчины, пытающиеся быть феминистически настроенными, склонны повторять те же патриархальные шаги, от которых мы теоретически отказываемся. Как высказывается Хит:
…в конце концов, это относится к компетенции женщин: то, что именно их голоса и действия должны определять изменения и переоценку… Женщины являются субъектами феминизма, его инициаторами, его создателями, его силой… Мужчины являются объектами… агентами структуры, подлежащей преобразованию… носителями патриархального режима; и мое желание быть субъектом в феминизме — быть феминистом — это только последний маневр в длительной истории их колонизации (1)1.
Хит не первый, кто подчеркнул, что мужчины, приступающие к разговорам о феминизме, могут испытывать соблазн его колонизировать. Среди наиболее известных и наиболее веских аргументов по этому поводу (а это тот, который Хит признает «неотъемлемой частью написания [своего] эссе», 266n), содержится в статье Элейн Шоуолтер «Критичное переодевание: Мужчины-феминисты и Женщина года». В этой статье Шоуолтер обвиняет Терри Иглтона в совершении «набега феминистской критики» в «Изнасиловании Клариссы» (127). По мнению Шоуолтер, Иглтон из «Изнасилования Клариссы» (но не Иглтон из Теории литературы), по-видимому, является одним из «теоретиков-мужчин», которые «заимствуют язык феминистской критики без желания исследовать собственные предрассудки маскулинности в собственной системе считывания» (127). То, что Иглтон должен прояснить свою позицию в отношении феминизма — по той части , что Хит описывает как «объект» феминизма, «[агента] структуры, подлежащей трансформации» — для Шоуолтер чрезвычайно важно. «То, по чему я в основном скучаю из “Изнасилования Клариссы”, — пишет она, — это любой признак со стороны Иглтона, что в его полемике есть что-то двусмысленное и личное, некая авторская тревога, связанная с его собственной культурной позицией» (130).
Шоуолтер писала свою статью в 1983 году, когда феминистская критика самосознания мужчин была относительной редкостью. С тех пор появилось значительное количество гендерной критики, написанной мужчинами, большая часть которой, прямо или косвенно, должна была смириться с «невозможностью» существования связи между мужчинами и феминизмом. Одна из самых ранних книг — «Мужчины в феминизме», рассматривает проблему довольно прямолинейно. Книга возникла на основе пары заседаний MLA в 1984 году; перед заседаниями доклад Хита был распространен среди всех участников. Идея «невозможности» существования связи между мужчинами и феминизмом, таким образом, является повторяющимся вопросом на протяжении всей книги. Например, Алиса Джардин считает, что «невозможная связь» Хита является показателем «борьбы», и, таким образом, кажется, что она враз становится достойной похвалы («Хит хочет, чтобы мужчины учились благодаря феминизму, старались быть как можно более феминистски настроенными» (59)), а также сомнительной («Почему же тогда мужчины хотят быть в феминизме, если речь идет о борьбе?» (58)). Элизабет Вид напоминает нам, что «если связь мужчин с феминизмом невозможна, то в различных вариациях таковой является и связь женщин с феминизмом», поскольку это так и есть и для мужчин, так и для женщин, «хотя мы, как отдельные человеческие субъекты, живем нашей гетерогенностью, мы также живем и с оглядкой на наши социальное положение» (74). «Критичное переодевание» Шоуолтер, которое, как я указал, было важным текстом, предшествующим статьи Хита, включено в книгу (а также ответ Иглтона и обратный ответ Шоуолтер). В этих и других эссе отнюдь не существует консенсуса по вопросу о «невозможности» связи мужчин с феминизмом, но широко распространено признание того, что это проблема: отношение мужчин к феминизму является значительно и, вероятно что, непреодолимо проблематичным.
Однако некоторые гендерные критики мужского пола выступают против утверждения Хита о том, что связь мужчин с феминизмом «невозможна». В книге «Вовлеченные мужчины: проблема мужской феминистской критики» Джозефа А. Буна, отмечая, что «в книге «Мужчины в феминизме» один критик за другим, независимо от его или ее личного прочтения этой проблемы, тем не менее соглашается с теоретической невозможностью того, чтобы мужчины когда-либо были “причастны к” феминизму, за исключением случаев вторжения, насилия, принуждения или присвоения», утверждает, что« быть в» не является единственно возможным отношением между мужчиной и феминизмом» и пытается «перенаправить наше внимание на возможности ( а не отсутствие таковых), присущие связи мужчины и феминизма» (12, подчеркивает Бун). Бун утверждает, что одной из причин, по которой Шоуолтер и другие обнаружили, что вовлечение мужчин в феминистский дискурс происходит в форме колонизации, является то, что они ищут тех критиков, которые, скорее всего, будут в состоянии присвоить феминизм для использования в других дискурсах: «хорошо известные и очень влиятельные люди в академической сфере уже отождествили себя со специфическими школами критики — за исключением феминистской критики — и с крепкими, существовавшими ранее привязанностями, которые, вероятно, почти неизбежно изменили их заявления о симпатиях к феминизму» (14)2. В сущности, как пишет Бун, Шоуолтер преподнесла небольшую группу мужчин в очень специфическом ракурсе, как представителей, собственно «мужского феминизма» («не потому, что она не знает о молодых, менее заметных мужчинах, работающих в этой области, — добавляет он, — а потому, что она пишет обзорное эссе, которое обязательно ограничивает ее выборку критиков»). Согласно Бун, одним из решений данного вопроса является, по его словам, «впредь немного умасливайте «я» — личное местоимение, скрытое в слове мужчина» (12). Под этим он подразумевает как минимум две вещи. Он, прежде всего, обращает внимание на то, что отдельные мужчины отличаются друг от друга, и что теории о мужском феминизме, которые рассматривают всех мужчин, как будто те одинаковы уже в силу того, что они мужчины, столь же разрушительны и склонны к фальсификации, как и аналогичные теории о природе «женщины». Во-вторых, он имеет в виду, что мужчины должны раскрыть свою позицию в отношении феминизма, исходя из особенностей своей собственной жизни. Таким образом, когда он намеревается описать пять «аспектов» из недавней истории мужской феминистской критики, которые будут служить основой его аргументу, он указывает на свое «очень личное и действительно субъективное отношение» касательно этих аспектов и отмечает, что «именно в самой близости и неловкости моей точки зрения относительно каждого из этих случаев я периодически испытывал вышеупомянутый разрыв между «собой» и «мужчинами» во «мне» (13). Он имеет в виду, что существенную долю того, что он узнал из феминизма или о феминизме, он усвоил не потому, что воспринимает его как дискурс, а потому что соприкасается с ним.
Аргумент Буна поднимает важные вопросы о том, как мужчины должны воспринимать свою связь с феминизмом и феминистской критикой. С одной стороны, я не могу слишком сильно хвалить большую часть системы ценностей и идей, упакованных во фразу «умасливать… “я”… в… “мужчине”» (12). Мне кажется, что настойчивость Буна в отношении разнообразия связи мужчин с феминизмом и его попытки увидеть свою личную позицию в отношении феминизма весьма похвальны. Тем не менее, мне кажется, что в аргументации Буна есть некоторые потенциально опасные проблемы. Одним из следствий или целей желания Буна проводить различие между различными типами связей, которые имеются между мужчинами и феминизмом, является обособление себя от «трансвеститов», фальшивых феминистов. Он прямо заявляет, что «прочитал статью Шоуолтер с особой тщательностью, стремясь обнаружить [свое] отличие от “представленных в негативном свете” “феминистов”, упомянутых в названии статьи» (15)2. Тем не менее он никогда не описывает критерии, по которым можно отличить «истинного» феминиста от «ложного». Я, конечно, не стал бы утверждать, что Бун должен сказать нам, кто такой «настоящий мужчина-феминист», чтобы мы знали, кто «попадает» в их число, а кто нет. Но проблема «критериев» имеет смысл: тот факт, что статья Буна, кажется, работает согласно логике критериев — он хочет «обнаружить [свое] отличие от представленных в отрицательном свете «мужчин-феминистов» — выдает элемент защиты в работе Буна: сильное желание не только быть феминистом, но и восприниматься как феминист, «истинный» феминист, в отличие от трансвестита.
К чему ведет такая защита Буна в его эссе, так это к ошибочному обобщению категории «мужской феминизм»; некоторые из эссе в «Вовлеченных мужчинах» — это то, что мы сейчас называем не феминистской критикой, а гендерной критикой. Феминистская аргументация, безусловно, должна, по крайней мере, быть ориентирована на женщину; она должна быть непосредственно привержена борьбе за преодоление угнетения женщин, однако такая борьба ведется и на любой территории. Многие из статей в антологии Буна и Каддена просто не соответствуют указанным критериям. Подобное чрезмерное обобщение, предположительно, не является ошибкой, которую Бун совершил бы сегодня, так как исследования женщин, исследования мужчин и исследования квиров стали признанными академическими областями. Но гипотетический пример может показать, что подобная защита, которая имеется не обязательно у Буна, но у мужчин-феминистов в целом, может привести к еще большим трудностям и на самом деле может сделать невыполнимой часть наиболее ценной работы над вопросом гендера, которую могут выполнять мужчины. Бун цитирует с одобрением, и я думаю это справедливо, что Жардин цитирует Элен Сиксус, что «мужчинам еще есть, что сказать о своей сексуальности» (24). Предположим, что мужчина-критик попытается исследовать идею — широко распространенную в феминистских трудах — о том, что мужская сексуальность является зеркальной, объективизирующей и порнографической для того, чтобы попытаться описать то, каков опыт такой сексуальности, как, как он происходит, что окружает его. Каким будет давление — стопроцентно и всегда — которое окажет «феминист» на такой проект? Как мужчина может сказать что-то подобное на правду относительно такого опыта, если он обнаружит, что правда о его сексуальности заключается как раз в том, каким он быть «не должен»? Это не означает, что подобной критике не надо читать и узнавать из работ таких авторов, как Андреа Дворкина, которая критикует подобною порнографическую сексуальность. Но если мы хотим исследовать нашу маскулинность — а мне кажется, что это то, что мужчины-феминисты должны делать, — то нам следует иметь возможность взглянуть на те аспекты себя, которые не являются феминистскими, а это означает, что мы должны прибегнуть к местам, где давление, чтобы быть «феминисткой», временно приостановлено. Если мы должны «уговорить “я” в “мужчине”», мы также должны уговорить «мужчин» в «я» — всех их. Для мужчин быть защитником феминизма — значит сделать отношения между мужчиной и феминизмом «невозможными».
Это может показаться шатким путем. Ибо, если мужчины хотя бы временно откажутся от своих моральных обязательств быть феминистами — это то, о чем мы говорим, я думаю, моральное обязательство — что вообще должно заставлять их быть феминистами? Что в этом мужского? Я мог бы утверждать, что в примере, который я использовал выше, «отказ» от феминизма совершается для достижения феминистской цели, понимания и, в конечном счете, переосмысления мужской сексуальности, которая угнетала женщин. Но я думаю, что вопрос «что в этом мужского?» хороший вопрос; он заслуживает некоторого внимания. Я не могу ответить на вопрос касательно всех мужчин; Бун совершенно прав, настаивая на том, что разные мужчины устанавливают совершенно разные связи с феминизмом, и это означает, что мужчины придут к различному пониманию своего отношения к феминизму. Я думаю, что могу начать отвечать на вопрос от своего имени.
Мне задавали этот вопрос раньше. На конференции в Корнелле, после того, как я прочитал раннюю версию своей статьи «Мужской профеминизм и маскулинный гигантизм “Радуги земного тяготения”», женщина из зала спросила меня, почему мужчины должны быть вовлечены в феминизм, каково их участие в этом. Как ни странно, я никогда раньше не задумывался над данным вопросом; после одного неудовлетворительного ответа после другого, я ответил одним словом: «вина». Когда смех утих, я продолжил, сказав, что я думаю, что мы должны серьезно относиться к мужской вине, посмотреть, откуда она исходит, и попытаться обдуманно использовать ее. Тогда я знал, что этот ответ не совсем честен, хотя в то время я не мог придумать лучшего. Не то чтобы мой ответ был совершенно нечестным; осознать свое соучастие в угнетении женщин — значит, развить в себе совесть, чувство вины. Но существительное без агента или референта (вина в том, что? относительно кого?) Скрывает столько, сколько раскрывает. Если бы я мог сказать: «Потому что я чувствую себя виноватым», то я бы знал, насколько на самом деле нечестным был ответ и насколько он был несправедливым. Ибо, хотя я не стал бы недооценивать значение или даже силу вины, моя приверженность феминизму гораздо глубже, и это гораздо более проблематично.
Думаю, что все начиналось с моей мамы. Моя мать была до некоторой степени идеалистом всю свою жизнь, особенно на протяжении своей молодости. Ее собственная мать, набожная, несколько жесткая женщина, горячо верившая в тяжелую работу и честное поведение, воспитывала ее как мать-одиночка: она развелась со своим мужем довольно рано из-за какого-то преступления, которым она была слишком возмущена, чтобы его обсуждать. Привычные стандарты поведения моей бабушки были скорее подтверждены, чем изменены вследствие развода. Она была так взбешена моим дедушкой, что она повырезала из своих фотографий ту половину, где был изображен он, но много лет спустя она подписывалась в официальных документах как «Рут Риммер, вдова», потому что развод был слишком постыдным для нее, чтобы публично его признать. Моя мать разделяла неприязнь своей матери к нему; она думала, что он корыстен и прибегал к манипуляциям. Однажды она вспомнила мне написанное ею сочинение для конкурса, которое она дала своему отцу для отправки. Только после того, как она уже выиграла конкурс, она узнала, что отец полностью переписал ее эссе за нее, изменив не только его стиль, но и его содержание. Для него такое не имело значения; важно было выиграть конкурс и прилагавшийся денежный приз. Для нее, конечно, это было грубой узурпацией, унижением всего, что она написала. Этот инцидент символизировал для нее все, что она презирала в этом человеке, а для меня — многое, чем я восхищаюсь в ней. Она была невероятно честна и ожидала, что другие тоже будут честны. В этом возрасте и на каком-то уровне на протяжении всей своей жизни она верила в себя. Она верила в принципе — верила в работу, в интеллектуальный, принципиальный патриотизм, в любовь и брак, в возможности. Ее жизнь подтвердила ее веру: не только яркая, но и трудолюбивая, моя мама хорошо училась в школе, она была членом успешного дискуссионного клуба, она была популярна среди мужчин и женщин.
В аспирантуре она познакомилась с моим отцом. Он был нежным и очень умным. Он был принципиальным. У него было чувство юмора. Если у него и был недочет, так это то, что он был застенчивым; он не любил групповые собрания, которые так много значили для нее, и в некоторых моментах он не мог ей открыться. В то время это казалось мелочью, и, при прочих равных условиях, могло бы быть и так. Их ранние годы были, по ее словам (почти весь этот рассказ от ее лица), довольно счастливыми. Когда они переехали в Кембридж, чтобы мой отец смог получить докторскую степень (они оба уже получили степень магистра), она быстро стала такой же активной, как и в Техасе: она была активной в церкви; она занималась волонтерской работой, и ей нравилось упрекать женщин голубой крови (с которыми она работала), почти так же сильно, как обижалась на их невыносимое превосходство; она преподавала письмо отстающим студентам из экономически неблагополучных семей и заслужила их уважение.
И все же семена ее недовольства были посеяны здесь и в Эванстоне, где мой отец получил свою первую работу учителя. Молчаливость моего отца давалась ей тяжело; его коллеги были скучны. Она возмущалась своей ролью жены преподавателя и снисходительностью мужчин-ученых и их жен по отношению к ней. Когда она родила мою сестру, а это через два года после меня — ее положение ухудшилось. Забота о нас означала, что она должна была отказаться от своей работы, как волонтерской, так и оплачиваемой; молчаливость моего отца, некогда раздражающее, но терпимое, быстро стало невыносимым, когда он стал ее единственным источником компании взрослых. Со своей стороны мой отец попал в богомерзкую гонку за собственность; ученые требовали большей части его сердца и разума, и, не зная другого способа жить, он дал им это. Подобно мужчинам в те времена и в меньшей степени подобно сегодняшним мужчинам, он был обучен думать о своей работе как о чем-то, что, будучи сделано хорошо, можно было бы разделить со своей женой, как дар. Он посвятил ей свою первую книгу, и ему было очень больно от того, что она не прочитала ее и не осознавал, что для нее эта книга была не плодом многолетнего любящего и мучительного труда занятого ума, а главной причиной многих лет невовлеченности этого ума; это было не триумфальное выражение себя для нее, а невовлечение себя. К тому времени, когда они переехали в Остин, где она нашла немного друзей, которые не относились к ней серьезно, где делать было нечего, кроме как заботиться о своих детях, где не было ничего, что могло бы занять ее разум, не соответствовало ее доброте, которую она воспитала в себе, — ее жизнь стала непереносима.
В какой-то момент она начала пить. Я сомневаюсь, что у ее алкоголизма было какое-то конкретное начало; то, что когда-то было социальным, стало суррогатом для социального и обезболивающим для полного и бесповоротного отчуждения от социального. До самого конца своей жизни она была в значительной степени функциональным алкоголиком: она редко пила до 5:30 (точнее, в последующие годы), что позволяло ей, когда ее дети были в школе, возобновить преподавание (и, по всей видимости, она была отличным учителем); она тщательно управляла своими финансовыми ресурсами; она поддерживала дом в аккуратном неизменном состоянии. Она довольно хорошо спрятала алкоголизм от всего мира, и в первую очередь от моей сестры и от меня; я даже не знал, что она пила, или, по крайней мере, что выпивка была какой-то проблемой вплоть до развода моих родителей, хотя теперь я знаю, что на самом деле она пила, а также что сильно пила и задолго до этого.
Однако после развода ни моя сестра, ни я не могли не заметить, как она пьет. До 5:30 она была превосходной матерью, заботливой, непредубежденной, заинтересованной в том, что мы делаем, абсолютно справедливой. После 5:30 она была совсем другим человеком. Она не подвергала нас физическому насилию, за что я становлюсь все более и более благодарным по мере взросления. Но когда она выпивала, она становилась сентиментальной; она жалела себя и ненавидела себя одновременно. Она обвиняла моего отца в том, что тот разрушил ее жизнь, и в то же время обвиняла себя в том, что она не смогла сберечь свой брак; она набросилась на себя за то, что была плохой матерью, и в процессе создала то, чего боялась. Моя сестра и я выступали в роли ее публики для взаимных обвинений и самообвинения, а вскоре стали частью шоу. Отчаянно пытаясь выразить всю свою боль и гнев, она будет критиковать нас за мелочи — плохо вымытую посуду, грязную ванную — в качестве предлога, чтобы держать нас там и с нами поговорить или нам что-то порассказывать; обвиняя себя в беспорядочности нашей жизни, она быстро указала на все, в чем она виновата — мои плохие спортивные результаты и в целом мое подозрительно «слабое», «женственное» поведение, увеличение веса моей сестры, наши неудачи в школе, где, скрывая наши секреты, мы оба были непопулярными, каждый по своему.
Обвиняя моего отца в своем несчастье, она насмехалась над нашей любовью к нему, и в моем случае — и это важно — обвиняла меня в том, что я слишком похож на него, холоден, отчужден, интеллектуально высокомерен, «важное каменное лицо». Она была права во мне, хотя я сначала не узнал человека, которого она назвала моим отцом. Моя стратегия справиться и с ее жестоким обращением, и с потерей отца, и моего детства, и моей веры в себя и — что немаловажно — в мою мать, заключалась в том, чтобы изгнать ее единственным способом, который я знал, а именно: отказаться делиться собой, не показывать эмоций; гордиться и использовать в качестве оружия единственное, в чем никто никогда не додумался бы меня обвинить — в искусстве интеллектуальных игр. Короче говоря, я стал моим отцом, поскольку она знала его; она была права. И я никак не мог выразить или даже понять ужасную несправедливость этого обвинения. В некотором смысле я наслаждался этим. Будучи таким, как мой отец, я мог в одно и то же время сохранять в себе чувство приличия (для той части меня, которая помнила его нежность и остроумие, видела его как спасательный круг в более ранний период, когда не было ни одного ужаса, который теперь окружал меня — и, разве я не был таким, как он?), и принять участие моей матери в ее войне с ним (ибо разве он не такой, как я, бесстрастный и гордый?). Я был слишком похож на своего отца; отлично. Да будет так.
Я бы не стал утверждать, что мое детство и юность были типичными. И все же я теперь поражен слиянием моих частных и условных «я» и «мужчин». Из этого нетипичного семейного сценария — не то, что неблагополучные семьи были редкостью — вырос мужчина, который всецело вписывается в тип мужчины. Мне потребовалось много лет, чтобы осознать это, думая так, как я тогда думал: что я ни в коем случае не являюсь нормальным, что в действительности нормальность была потеряна для меня, а я для нее. И все же это совершенно верно: как и положено мужчинам, я подавил свои чувства; я был высокомерен; я был интеллектуален и довольно снобистски к этому относился. Правда, я был плох в спорте, и редко, если вообще когда-либо испытывал всепоглощающую преданность хорошего друга и товарищей по оружию; но я знал исключительные правила этой игры — товарищи по оружию определяют себя как противники — и хотя я ненавидел то, что считал своими палачами, я одел на себя ледяную маску, которая дала бы мне безопасный путь сквозь их ряды, идентифицирующие меня в качестве одного из них. Я учился из стольких источников, что не смогу разобраться в них сейчас, и я ни в коем случае не отрекаюсь от жестокого обращения со стороны моей матери, которое стало источником моего мужского поведения тогда или сейчас. Но эта арена кодифицировала мою мужественность, укрепила ее, запечатлела ее, дала ей оправдание и причину, окаменела в моих эмоциях ужасным образом отрицания, подавления, онемения, отчужденности, высокомерия; образец солипсизма, в связи с которым я снова и снова отрезаю себя от других, цепляясь за стратегию размежевания, которую я принял за саму модель человеческого сознания; своего рода вуайеризм в повседневной жизни, ограничение сексуального и эмоционального контакта с пристальным обиженным желанным взглядом из-за важной каменной маски; образец, в общем, который сейчас выглядит для меня очень похожим на образец того, каковы «должны» быть мужчины. Как мужчина я был слишком похож на своего отца.
Но в то же время я считаю, что мои отношения с матерью вдохновляют меня и на приверженность к феминизму. И снова мое особое затруднительное положение резонирует в рамках культурных моделей. Я — мужчина; меня обвиняет моя мать, чья жизнь была разрушена патриархальной культурой, нивелирующей ее амбиции, ее интеллектуальные возможности и ее ощущение себя как порядочного человека — слишком похожего на моего отца. Хоть моя мать и не считала себя феминисткой, ее жизнь была резкой критикой феминисток, написанной чернилами, состоящих из страданий. Я несу ответственность за это, подумал я; поскольку, как и дети алкоголиков, я чувствовал свою ответственность, хотя я не мог тогда сформулировать это для себя. Каким-то образом я виноват в том, что мои родители развелись, что моя мать была отчаянно несчастна, что мой отец остался в стороне. Недостаток был во мне; разве моя мама не сказала мне так много? Но здесь моя аналогия — в той мере, в которой это является аналогией, а не просто жизненным опытом, — рушится. Я не был ответственен за пьянство моей матери, но я несу ответственность за все маскулинистские модели поведения, которые я выучил, разыгрывал и увековечивал в других.
Чувство вины, в самом-то деле; как быстрый защитный ответ, это много скажет любому, кто знает, что это слово значит для меня. Но не просто вина. Потому что страдания моей матери были источником моих собственных, и они продолжались в течение многих лет, и в самом деле продолжаются до сих пор. Снова и снова я возвращался на эту арену, пытаясь пережить эту тревогу, вину, боль, одиночество, потерю, страх; посредством всех уловок, маленьких или больших — которые известны детям алкоголиков — я пытался воссоздать гостиную, какой та была: моя мать на диване, мы на полу, пытался вернуться для того, чтобы повернуть время вспять только на одну день и чтобы снова знать, что моя мама любит меня так, как я знал, она любит; что я люблю ее и никогда не переставал этого делать; что я могу любить ее, не боясь разоблачения или упрека; что все, что я сделал, я мог бы отменить или быть прощенным; что она могла быть счастлива; что мой отец мог вернуться; что все могло быть в порядке. Но все, что я нашел, это саму схему, но не передышка; стремясь избежать этого страдания, я снова и снова становился моим отцом. Как я мог остановиться? В слишком многом я был, как мой отец; как перестать быть собой?
Я мало что узнал от мамы, что было собственно феминистским, за исключением простого чувства справедливости, но из-за нее феминизм для меня на карту ставит все. Мне потребовалось много лет, чтобы понять, что я не могу спасти свою мать, что я не несу за нее ответственности. После этого мне потребовалось много лет, чтобы понять, что мой отец был не совсем уж злодеем, каким его подавали. Не то чтобы он был невиновен; никто из нас не был. Но если я задам себе очевидный вопрос — даже если он и не создавал и не применял правила, лишившие мою мать самореализации (и моя мать была достаточно строгой), разве он, как глава семьи, не получал выгоду от моей матери? Статус домохозяйки, матери, жены преподавателя? — тогда я должен ответить, да, конечно, он получал, но, думаю, не так много, как он выиграл бы от равноправных отношений с женщиной, которая была разумно самореализована. Он должен был проходить ночные сцены в течение многих лет, прежде чем это начали делать мы; и он должен был справляться с эмоциональным беспорядком, как и все мы. В этом доме никто не выиграл от патриархата. Ни моя сестра, ни я, это уж точно; грехи отцов возвращались с удвоенной силой.
Я не могу с уверенностью сказать, что феминизм — имей он большую власть в поколении моей матери — «спас бы» любого из нас; феминизм не лекарство от алкоголизма. Но я убежден, что он имел бы значение. И поэтому, из-за моих, по общему признанию, особых семейных обстоятельств, мне представляется совершенно очевидным, что феминизм отвечает моим интересам и долгосрочным интересам всех мужчин. Не обязательно всем моим интересам во множественном числе, но в наиболее важным из них. Суть в том, что мужчины не отделены от феминизма, потому что они не отделены от женщин. Благополучие наших матерей, бабушек, сестер, других значимых людей, жен, начальников, коллег и подруг тесно переплетено с нашим собственным, связанным на самых глубоких уровнях нашей психики, несмотря на то, что мужские (как правило, явно ложные) претензии являются «независимыми». Благополучие в конечном итоге не измеряется и не отмеряется с точки зрения власти и привилегий, оно является продуктом отношений. Как тогда я мог утверждать, что эта борьба за феминизм не является также моей?
Я не верю, что мужской феминизм «невозможен»; и при этом я не верю, что Хит думает, что это так. Хит подчеркивает, что он говорит, будто связь мужчин с феминизмом невозможна не «к сожалению, и не из-за в сердцах сказанного… но ввиду обдуманного осмысления» (1). Использование Хитом слова «невозможна», то есть гиперболы с политической функцией служит для замедления легкого вхождения мужчин в феминистский дискурс, чтобы напомнить мужчинам, что их позиция в отношении феминизма всегда проблематична, всегда обусловлена их положением и их идентичностью в качестве мужчин. Такой скептицизм по отношению к себе является хорошей штукой, если он не становится парализующим.
Но мне интересно, если, спрашивая о связи мужчин с феминизмом, мы в итоге не отвлекаем внимание от того, что более важно — связи мужчин и отношений с женщинами. В конечном счете не важно, может ли любой мужчина или какой-либо конкретный мужчина называть себя феминистом или профеминистом; такое обращение — политический ход, полезный в одних контекстах, опасный в других. Важно то, как мужчины ведут себя по отношению к женщинам, как в межличностных отношениях, так и в рамках более крупных социальных структур. Чтобы вести себя хорошо, я полагаю, требуются не только — и даже не столько — интеллектуальные навыки, как категоризация (феминистская / не феминистская) и анализ (феминист обладает качеством х, качеством у), как фундаментальные личные качества и межличностные способности: справедливость, забота, целеустремленность, уважение к другим, честность по отношению к другим и к себе, непредубежденность, скептицизм в отношении полученной мудрости, способность слушать, способность представлять себя на месте другого. Ни одно из этих качеств нельзя назвать исключительно или определенно феминистским, хотя они были центральными ценностями в феминизме с самого начала. Вместе они определяют сферу деятельности, где «невозможность» не является проблемой: все эти качества и способности возможны — и все они комплексны, требуют постоянной борьбы и внимания.
1992
1 «Мужчины и феминизм» Хита и «Стратегически важное переодевание» Шоуолтер цитируются так, как они появляются в «Мужчины и феминизм» у Jardine and Smith, хотя оба они появились раньше (эссе Хита в более полной версии), потому что я учитываю, что последний текст наиболее широко доступен. назад
2 Торил Мои, в своем ответе на «О мужчинах и феминизме», отмечает, что существует «несколько тревожный институциональный подтекст к призыву Буна для мужчин в феминизме. Этот подтекст структурирован по ряду противоположностей: старый / молодой, видимый / невидимый, известный / неизвестный, болтливый / молчаливый и т. д. (см. в др. местах). Но, за одним или двумя неуклюжими исключениями, Бун не применяет эти категории к женщинам-критикам. Его интересует агонистическая борьба между молодыми и старыми, невидимыми и видимыми мужчинами» (186-7). Это не только повторение стандартного мужского соперничества, но и сомнительное риторическое подтверждение его феминизма: «Бун, используя правую, «угнетенную» сторону хорошо известного ряда патриархальных бинарных оппозиций, и помещая их в своем собственном профессиональном контексте, пытается выдать любого неизвестного критика мужского пола за «молчаливого», «невидимого», «бессильного» — короче говоря, как «женоподобного», а отсюда, значит, и за «феминиста» (187). назад
Работы, которые цитируются
Бун, Джозеф Аллен. О мужчинах и феминизме: Какой из полов пишет сценарий? Вовлеченные мужчины: проблема мужской феминистской критики. Ред. Джозеф Аллен Бун и Майкл Кадден. Нью-Йорк: Routledge, 1990. Стр. 11-25.
Хит, Стивен. «Мужской феминизм». Dalhousie Review 64.2 (лето 1984): стр. 70-101. Краткая версия напечатана в Jardine and Smith, стр. 1-32.
Жардин, Алиса. Мужчины в феминизме: Odor di Uomo или Compagnons de Route? Jardine and Smith, стр. 54-61.
Жардин, Алиса и Пол Смит, ред. Мужчины в феминизме. Нью-Йорк: Methuen, 1987.
Мои, Торил. Мужчины против патриархата. Пол и теория: Диалоги по поводу феминистской критики. Ред. Линда Кауфман. Оксфорд: Basil Blackwell, 1989. стр. 181-188.
Шоуолтер, Элейн. Стратегически важное переодевание: Мужчины-феминисты и Женщина года. Raritan 3: 2 (осень 1983 года). Позжая публикация в Jardine and Smith, стр. 116-132.
Вид, Элизабет. «Мужское место». Jardine and Smith, стр. 71-77.

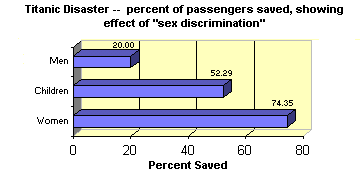 процент выживших мужчин составил 20%, выживших женщин — 74%, детей — 52%. Да, это были действительно «женщины и дети в первую очередь».
процент выживших мужчин составил 20%, выживших женщин — 74%, детей — 52%. Да, это были действительно «женщины и дети в первую очередь».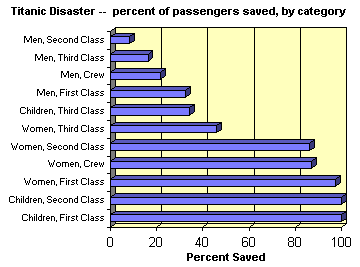
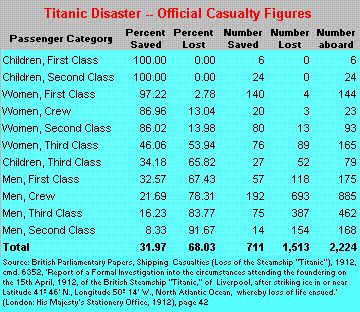 (по сравнению с ожидаемыми показателями выживаемости, основанными только на показателях пола и возраста) разъясняет разницу в коэффициентах выживаемости, связанных с (но не обязательно вызванных) классом. Если бы пол и возраст были единственными переменными, определяющими вероятность выживания, то мы бы предполагали, что шанс на выживание у женщин из каждого класса будет 74,35%, у детей — 52,29%, а у мужчин — 20%. Применяя эти данные по процентам к фактическому количеству женщин, детей и мужчин из каждого класса, мы вычисляем ожидаемое число выживших. Затем мы подсчитываем, как это число отличается от фактического числа выживших в отношении конкретного пола, возраста и класса.
(по сравнению с ожидаемыми показателями выживаемости, основанными только на показателях пола и возраста) разъясняет разницу в коэффициентах выживаемости, связанных с (но не обязательно вызванных) классом. Если бы пол и возраст были единственными переменными, определяющими вероятность выживания, то мы бы предполагали, что шанс на выживание у женщин из каждого класса будет 74,35%, у детей — 52,29%, а у мужчин — 20%. Применяя эти данные по процентам к фактическому количеству женщин, детей и мужчин из каждого класса, мы вычисляем ожидаемое число выживших. Затем мы подсчитываем, как это число отличается от фактического числа выживших в отношении конкретного пола, возраста и класса.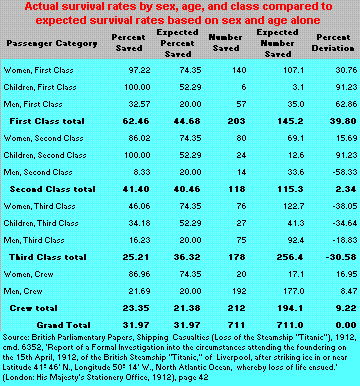 пассажиров первого класса составила 44,68%, для второго класса — 40,46%, для третьего класса — 36,32%, а для экипажа — 21,38%. Он также демонстрирует, что фактическая выживаемость для первого класса в целом была на 39,80% выше, чем ожидалось, а для третьего класса в целом на 30,58% ниже, чем ожидалось.
пассажиров первого класса составила 44,68%, для второго класса — 40,46%, для третьего класса — 36,32%, а для экипажа — 21,38%. Он также демонстрирует, что фактическая выживаемость для первого класса в целом была на 39,80% выше, чем ожидалось, а для третьего класса в целом на 30,58% ниже, чем ожидалось.